Дисней
Я пропустил диснеевские мультфильмы, потому что в моем детстве нам их не показывали — из коммерческих, а не идеологических соображений. С последним все обстояло благополучно. Дисней, как, впрочем, и весь классический Голливуд, стоял на стороне бедных, обижал богатых и строил бесклассовое общество из зверей и принцев. Но из первых оно получалось лучше, чем из последних.
Дисней считал свои мультфильмы высоким искусством, достойным музеев. Туда они и попали, и я, с жадностью добирая недоданное в детстве, не могу нарадоваться глубине, драматизму, а иногда и трагичности этих шедевров. В одном из поздних («Леди и бродяга», 1955) изображена тюрьма для бездомных собак, откуда их отправляют на эшафот. В этом ужасном месте единственным утешением служит философия Бориса — русской борзой, ссылающейся на Горького. (Видимо, намек на Луку из пьесы «На дне» и сегодня самого популярного на Западе опуса советского классика).
До тех пор, пока экзистенциальные драмы разворачиваются в царстве животных, даже таких экзотических, как ушастый слон Дамбо, мы верим происходящему и сопереживаем ему.
С людьми хуже — они возвращают нас в сказку, из которой мы уже выросли. На экране все человеческие персонажи, не исключая принцев, выходят схематическими и очень на нас непохожими. В них обнажается безжизненность куклы или абстракция иероглифа: «палка, палка, огуречик — вот и вышел человечек».
Нарисованный человек получается универсальным, а значит, упрощенным — нам же есть с чем сравнивать, себя мы слишком хорошо знаем. Зато анимализм — хлеб анимации. Звери обладают канонической внешностью, которая оборачивается бесспорным натурализмом.

Кадр из мультфильма «Леди и бродяга». Источник: кинопоиск
Египет
Лучше всего это заметно в египетском зале любого музея, который может позволить себе оригиналы. Человеческие статуи олицетворяют власть и изображают ее с помощью стандартного набора ритуальных атрибутов, включая церемониальную бороду, приделанную фараону-женщине Хатшепсут. Самая красивая египтянка Нефертити больше напоминает пришельца, чем даму, из-за чего сейчас принято спорить, к какой расе ее отнести.
Древний скульптор ваял не людей, а их функции. У греков это могла быть красота, сила, божественное. В Египте — величие, и мы с трудом отличаем одних фараонов от других, соглашаясь принимать универсальные черты за портретные. Но когда те же египтяне брались за животных, они получались совсем живыми. На сценах охоты можно, кажется, стрелять из лука в гусей. Львы внушают страх, кошки — благоговение, как и положено богине Бастет, покровительнице дома, деторождения, женских секретов и тех же кошек.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Надо сказать, что с тех пор как у меня поселились два абиссинца, я не перестаю удивляться тому, как мало эти кошки изменились со времен пирамид, когда принимают точно такую позу, как (специально сверял) статуэтки в музее «Метрополитен».
Если человек представлял не себя, а свое место в иерархии, то зверю достаточно быть просто собой, чтобы в него воплотился бог или богиня. Для этого он не нуждается в украшениях вроде державного орла, который не выходит из дома без короны или второй головы. Животные самодостаточны, они исчерпываются своим образом, созданным не по нашему подобию. В этом их прелесть для всех и соблазн для автора.
Когда Мандельштам увлекся писаниями натуралистов, он пришел к схожему выводу, сравнив естествоиспытателя с «владельцем странствующего балагана или наемным шарлатаном-объяснителем, (…) публичным демонстратором новых интересных видов».
В черновом варианте этого текста есть еще один важный абзац: «Слушатели воспринимали зверя очень просто: он показывает людям фокус одним только фактом своего существования, в силу своей природы».
Именно так — не превращая питомцев в людей и не путая их с близкими — хвастался читателям своим зверинцем Джеральд Даррелл, которого за это мы любим больше, чем его великого брата Лоренса.

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
Пещера
Если отойти еще дальше в прошлое, то мы столкнемся с такими зверьми, с которыми уж совсем не знаем, что делать. Я навестил их в Пиренеях.
Путь в пещеру, одну из последних, куда еще пускали нас, зевак, был долог и непрост. Гид с единственным фонарем (нам их брать запретили) вел отряд по скользкой тропинке в почти полной темноте и молчании. За полчаса такой дороги мы настолько оторвались от своего времени, что попали в никакое — доисторическое — и были готовы ко всему. И все же огромная зала, которая нам наконец открылась, убивала наповал. Щадящий древние краски луч фонаря на мгновение выхватывал целый зверинец, накопленный за тысячелетия. Полузнакомые жители пещерной стены изображали порыв, движение, энергию и умысел, недоступный нашему пониманию. Возможно,
нарисованные звери были нужны нашим предкам, чтобы стать нами. Но мы не знаем, какую роль бизоны и олени играли в этом долгом процессе. Звери всегда бросают нам вызов уже тем, что они есть, и мы никогда не поймем их так, как хотелось бы.
Я знаю. Я всю жизнь провел с кошачьими и убедился в том, что они справляются с гносеологическими проблемами несравненно лучше. Не понимая речь людей, они ими пользуются, не позволяя при этом навязать себе чужую — нашу — волю. Говорят, что коты могут исполнить сто команд, но не хотят.
Отчаявшись понять зверей, мы их переодели в людей и перевели на свой язык. Только в таком виде они смогли приносить нам интеллектуальную пользу, прежде всего — в словесности.

Изображения копытных тарпанов и шерстистых носорогов в пещере Шове на юге Франции. Фото: википедия
Лосев
Поэт и профессор Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире Лев Лосев любил своих студентов и не давал им спуску. Вместо неизбежного в американском вузе Достоевского он преподавал им Тургенева и выводил своих питомцев в стихах:
Однако что зевать по сторонам.
Передо мною сочинений горка.
«Тургенев любит написать роман
Отцы с Ребёнками». Отлично, Джо, пятёрка!

Лев Лосев. Фото: litcult.ru
За все мучения Лосев награждал студентов необычными курсами. Один из самых популярных назывался «Литературные животные». Готовясь к нему, профессор неожиданно и для себя обнаружил, что американские и русские звери не только говорят по-разному, чего еще можно было ожидать, но и совсем о разном.
— В отечественной литературе, — замечал Лев Владимирович, когда мы обсуждали этот сюжет на «Радио Свобода», — животное играет ту же роль, что наш самый идиосинкратический герой — маленький человек. Скажем, у Толстого это Холстомер. А в Америке начитавшийся Ницше зверь оказывается сверхчеловеком, особенно на Аляске. Читайте Джека Лондона.
Я читал. Более того — как все русские дети, я на нем вырос. В калифорнийском музее Джека Лондона стоят сразу два его многотомных собрания сочинений, и оба на русском. Для нас мужество героев Лондона заменял военный пафос «Молодой гвардии» и «Повести о настоящем человеке». Смок Беллью сражался с Севером и восхищался им. У него не было одушевленного врага, и это превращало битву с природой в честный поединок, на который мы, люди, сами напросились.
Животные у Джека Лондона интереснее людей. Ездовые собаки, без которых не обходятся полярные приключения, двигаются взад-вперед по эволюционной лестнице. В «Белом клыке» волк перебирается к людям, в «Зове предков» наоборот — собака возвращается к волкам. И если мы предпочитаем первый вариант, то в Америке выбирают второй. Не одомашнивание, а одичание ведет к высшей награде — свободе, пусть и окупленной смертью.
Так говорил Заратустра собакам Джека Лондона, и они его слушали. А он слушался их: «Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит Заратустра. Пускай же ведут меня мои звери!»
Моби Дик
Анималисты любят говорить за животных, но вряд ли то, что тем понравилось бы. Вставляя в чужую пасть свои слова, мы ведем диалог с собой, не в силах выйти за пределы человеческой перспективы. А если бы вышли, то удивились бы. Пытаясь встать на чужую точку зрения, Лотман писал, что звери живут по вечным правилам, а человек — по произвольным. Поэтому зверю человек должен казаться сумасшедшим — непредсказуемым.
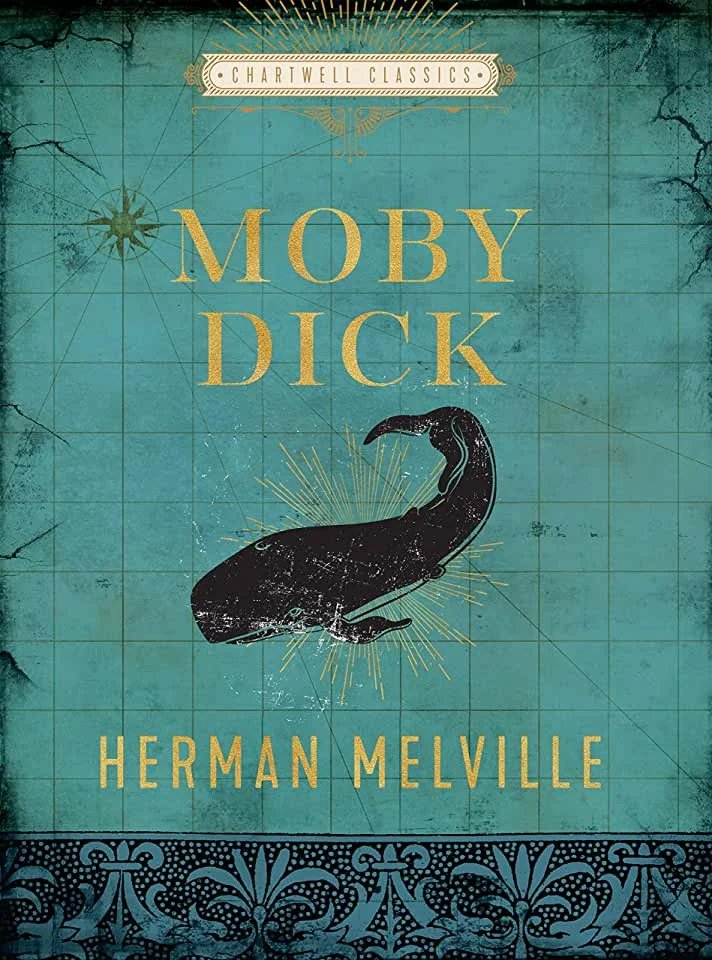
Обложка книги «Моби дик»
Непреодолимость видовых границ не мешает животным попасть в литературу, где они меняются намного меньше нас. Зверь всегда равен себе, мы — нет.
Именно поэтому я никак не могу дочитать «Моби Дика». Я нежно люблю Мелвилла за его лирическую утопию о каннибалах («Тайпи»). Я без конца перечитываю начало его главного шедевра. Следя за рассказчиком «Измаилом» и его другом-дикарем Квикегом, я исследовал сухопутные окрестности романа в Бедфорде и Нантакете. Но как только доходит до самого Моби Дика, у меня опускаются руки и закрывается книга.
Что значит воплощение зла? Какой такой левиафан, вступивший в войну с нашим племенем? Кто, спрашивается, первый начал? Да и знаете ли вы кита? Плыли с ним рядом? Заглядывали в его глаз? Купались в пущенной им струе?
Нет? Я, положим, тоже. Но мне довелось стоять на палубе экскурсионного суденышка, когда из морской пучины по-торжественному медленно, словно мель в отлив, поднялся обросший ракушками черный китовый бок. Увидев его, я был горд, будто сам создал это высшее (самое большое) достижение нашей млекопитающей природы.
Пустить его на сало, чтобы рассеять лампами с китовым маслом сумерки Новой Англии — больная идея. И в единоборстве Ахава с Моби Диком я целиком на стороне последнего.
Как, впрочем, и в других книгах про охоту.
Когда я читаю у Хемингуэя, что герой или автор мечтает убить льва, мне хочется, чтобы лев убил Хемингуэя.
Несмотря на то что он был моей первой литературной любовью, простить его уже нельзя. В противостоянии людей и зверей сегодня мы всегда на стороне последних.
Трезорка
Наши первые литературные герои — звери, с которыми мы знакомимся, когда еще не сильно от них отличаемся. Врач-педиатр обиделась, когда я сравнил ее с ветеринаром, пока я не объяснил, что и у тех и других пациенты не могут сказать, где болит, отчего их особенно жалко. (Не знаю, как бы чуть изменить это нужное и хорошее предложение с учетом того, что педиатр занимается пациентами до 18 лет.)
В лучших детских книжках звери ведут себя так, как будто они никогда не вырастут. Этим они и отличаются от детей, которые еще не знают, куда стремятся.
Обладая одной чертой, животные ей верны и никогда не меняются. Пантера Багира — ласковый хищник, медведь Балу — мудрый добряк, тигр Шерхан — вылитый Гитлер, а шакал Табаки — Муссолини. Только у Маугли есть потенциал роста: был Лягушонком, но когда-то станет человеком — к счастью, за пределами повествования.
Когда литературные звери появляются во взрослых сказках, их роль подчиняется авторскому капризу. (Но ведь и с людьми так?) У Щедрина мы встречаем изрядно очеловеченных зверей вроде барана с душой тургеневского персонажа. «Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею».
У других щедринских животных природа мерцает. Она то принимает законную звериную оболочку, то скидывает ее, чтобы продемонстрировать неожиданную ученость. Пес Трезорка «под ударами взвизгивал: «Mea culpa!» Он же проявил моральную выдержку, устояв перед соблазном взятки: «Сколько раз воры сговаривались: «Поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья»…
Другими словами, басенные животные — звери в нашей шкуре, литературные фантомы и не жильцы. В них слишком мало звериного и слишком много человеческого, чтобы оставаться собой и не подчиняться насилию метафоры.
«Рабский жанр», — сказал Гегель.
«Каштанка»

«Каштанка». Иллюстрация Натальи Демидовой
Моя любимая «первая книжка» на поверку оказалась еще лучше, чем была. Идеал деликатного обхождения с меньшим братом, она умудрилась сохранить индивидуальность собаки, сказав о ней не меньше, чем о людях.
В сущности, это притча-квест. Она отправляет героиню в путешествие, соблазняет ее радикальной жизненной альтернативой и возвращает домой, в точку бифуркации, довольной, что испытание кончилось.
Как и положено этому жанру, рассказ начинается с нижней и душераздирающей ноты: Каштанка потерялась. Лишившись хозяина, она выпала из нормального хода вещей, обусловленного центральным законом, который являет себя в Великой цепи бытия. В изложении пьяненького Луки Александровича он звучит лапидарно и непреклонно: «Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра».
Взятый в волчью стаю Маугли — инверсия порядка, который он под себя подминает. Каштанка знает свое место и дорожит им больше всего. Ее приключение никуда не ведет, потому что привычный распорядок жизни со скудной едой, обидными побоями и жестокими шутками позволяет Каштанке быть крепким звеном в этой самой цепи, где она исполняет свою, а не чужую роль, навязанную сюжетом.
Попав к дрессировщику, Каштанка, как Алиса, оказывается в Стране чудес, где мир вывернулся наизнанку. Все ею встреченные противоречат своему естеству и носят чужие — человеческие имена: «гусь Иван Иванович, кот Федор Тимофеевич, свинья Хавронья Ивановна». Они будто бы составляют одну семью, скрепленную извращенными межвидовыми отношениями.
Такое возможно только в цирке, потому что в лесу, за чем я наблюдал в нашем заповеднике, животные не интересуются друг другом, если они не охотники и не добыча. Зайцы равнодушны к белкам, олени — к бурундукам и все — ко мне, потому что привыкли.
Но в том перевернутом мире, куда попала Каштанка, нет места ничему естественному. Углубляясь в него, она сталкивается со все более гротескной реальностью, финальным порождением которой явилось чудовище воистину библейского масштаба: «толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта».
Все знакомое обрушивается в пропасть абсурда: для нас — цирк, для нее — «Босх». Бегство Каштанки с манежа неизбежно, потому что противоестественный мир не может устоять, как пирамида, составленная из дрессированных, то есть изнасилованных человеческой волей животных.
У Каштанки не было выбора, на что надеялся ее новый хозяин. Вернувшись к старому, она обрела устойчивость мирового порядка, где она «насекомое», а столяр важнее плотника. Возвращение Каштанки в ее нормальный мир, как и у Алисы, оказалось пробуждением от интересного и странного кошмара: «все это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон».

«Каштанка». Иллюстрация Натальи Демидовой
Народ
На одной филологической конференции мой старый приятель и коллега высказал экстравагантную гипотезу.
— Зощенко, — объяснял он, — использовал свой народный комический сказ для того, чтобы быть понятным тому простому народу, для которого он писал.
— По-моему, — возразил я, — это то же самое, что утверждать, будто Чехов писал «Каштанку» для дворняжек.
Но на самом деле в этой параллели больше смысла, чем кажется, ибо в определенном смысле Каштанка — метонимия того народа, о котором говорил мой товарищ.
Каштанка представляет и заменяет народ, который в определенном смысле тоже наш меньший брат. В качестве литературного персонажа он вроде собаки с умными глазами: все понимает, а сказать не может. Поэтому за него, как в той же анималистической прозе, всегда говорят другие. Что бесценно для политиков. В их уравнении народ выполняет функцию икса, значение которого известно лишь тому, кто им пользуется. Точно, что не мне.
Я никогда твердо не понимал, что такое народ, и всегда его страшился, не в силах к нему примкнуть. Ведь народ — никогда не «я», народ — всегда «мы» или «они». Это ширма анонимности, и за ней легко прятаться.
В самом слове «народ» я слышу упрек мне и сострадание ему. «Я» всегда меньше и хуже народа, ибо он содержит в себе критерий правоты, хотя и неизвестно какой. Этого не знает никто, но в первую очередь — сам народ. Как все мы, он может увидеть себя только в зеркале, но обязательно в кривом. Степень искажения зависит от того, кто держит зеркало. На народ никогда не смотрят прямо — только сверху или снизу. Иногда он выше, иногда ниже — в зависимости от того, жалеем ли мы его или себя.
Ему можно молиться, его можно пихать, можно его наставлять, проклинать, сменить, придумать, его можно слышать, видеть, ненавидеть, и зависеть, и терпеть… В сущности, тут годится любой глагол, ведь народу нечего ответить — он всегда будет таким, каким его представляют все, кто о нем говорит, кроме, разумеется, тех, кто говорит напрямую от его лица.
В таком народе столько душ, сколько мы согласны сосчитать. Эта мистическая цифра никогда не совпадает с размером населения, как и с числом носителей языка, этноса, расы. Одни включают в народ патриотов, другие — умных, третьи — честных, четвертые — без разбору, даже соотечественников за рубежом. В совокупности он неисчислим и един, как муравейник или пасека, где, по слову старых почвенников, народ ведет свою «роевую жизнь». Это на несколько ступеней отделяет народ от Каштанки, но все еще оставляет его в мире животных. И это позволяет испытывать к народу тот спектр эмоций, что вызывают невинные, не созревшие до морали наши меньшие братья — младшие дети природы.
Нью-Йорк
