Принято считать, что учителя России массово поддерживают специальную военную операцию, с удовольствием занимаются патриотическим воспитанием и промыванием детских мозгов. Но есть и те, кто не поддерживает происходящее — но при этом не уезжает из страны, а продолжает работать в школе. Как сейчас живут эти учителя?
Хорошие учителя и хорошие русские
Оппозиционеры бранят учителей уже много лет, и, вероятно, справедливо: и за то, что они убеждают учеников, будто на митинги ходят одни подкупленные дурачки, и за то, что кричат на школьников и запугивают их, и за то, что фальсифицируют выборы. За обучение шаблонному мышлению, за то, что их не интересует мнение учеников, за воспитание людей, способных работать лишь по готовым образцам. Считается, что учителя — пособники режима и воспитывают молчаливое послушное большинство. Довелось даже прочитать недавно у жителя дальнего зарубежья, что те учителя, которые остались работать в школе, — преступники, потому что занимаются пропагандой. А если не занимаются, то как минимум учат детей двоемыслию, лицемерию и лукавству. Или даже — когда говорят о своих обычных синусах и косинусах, Пушкине и Достоевском — делают вид, что ничего не происходит, что продолжается обычная жизнь, то есть нормализуют в глазах учеников ненормальную ситуацию.
Пытаться доказать, что учителя бывают другими — почти то же самое, что доказывать в нынешние времена, что бывают «хорошие русские». Разбираться никто особенно не хочет: хорошие учителя, плохие учителя… Виноваты все. И школа ваша виновата, и классика ваша виновата.
Тем, кто не принимает насилия и не верит в него как способ разрешения конфликтов, приходится как-то держаться между двух огней: сверху спускают очередные патриотические инициативы, одна безумнее другой, с одной стороны — бдят ура-патриоты, с другой — на учителя навешивают всю ответственность за все: от какого-нибудь физрука, обидевшего папу нынешнего школьника в далеком детстве, до Герасима, утопившего Муму.
Оправдываться не имеет смысла. Только жить дальше и работать — до тех пор, пока видишь в работе смысл.
Здесь — люди
Многие учителя — из тех, кто не принял крутой поворот, который совершила наша страна, — покинули ее если не в феврале-марте, то в сентябре-октябре. Но большинство из них остались. И сейчас мучительно размышляют о том, как жить во все сокращающемся пространстве свободы, как работать, можно ли сохранить себя и сохранить возможность дышать и говорить не о навязанном «важном», а о действительно важном: о свободе, о гуманизме, о ценности человеческой жизни. Все чаще в учительских разговорах звучит: «я не могу оставить своих детей неизвестно кому», «я здесь нужна», «здесь — люди».
Разговаривать с ними для газеты трудно. Нельзя сказать, что люди боятся. Но они точно знают, что за их высказываниями присматривают.
Если кто-то занимает хоть мало-мальский пост, связанный с проведением ЕГЭ или какой-то олимпиады, или даже если он основной сотрудник школы, а не совместитель, — любое публичное высказывание может стать основанием для того, чтобы отстранить его от работы.
Кто-то не хочет подставлять начальство — вменяемое и прикрывающее свой трудовой коллектив от спускаемых сверху инициатив. Кто-то не хочет терять важную работу в интересном и полезном проекте. Наконец, в Москве, например, учителя вообще не имеют права общаться с прессой напрямую — только через пресс-службу Департамента образования. Если журналист хочет поговорить с учителем — пусть присылает запрос в пресс-службу, она перешлет его в школу, а затем получит ответ из школы и передаст журналисту. Так что уже не вызывает удивления то, что любой учитель просит не называть его имени. И номера школы тоже. И города.
Невозможно дышать
И даже эксперт, который дает интервью, тоже просит снять его фамилию и оставить только имя — Михаил. Он филолог, но получил второе психологическое образование, стал психотерапевтом и проводит группы психологической поддержки для учителей. В конце февраля он вел обычную группу, посвященную профессиональному выгоранию, и в нее входило примерно двадцать учителей из разных городов России — от Красноярского края до Петербурга, из деревень и из престижных столичных школ. После 24 февраля стало появляться очень много запросов, связанных с тревогой.
Михаил,
филолог, психотерапевт группы поддержки учителей:
— «Февральско-мартовские разговоры были все со слезами: настолько людям стало душно. Женщина из Ульяновской или Самарской области просто плакала в зуме — невозможно дышать. Я чувствую бессилие и стыд за то, что происходит, но при этом должна выходить и вещать о Пушкине, о разумном-добром-вечном, и это идет вразрез с тем состоянием, в котором я нахожусь.
Мы говорим про вечные ценности, а это оказалось какой-то фальшивкой. Мы хотим показать, как прекрасен мир, как можно словом достучаться, а это не работает. Это вызывает у учителя литературы бессилие: зачем я существую, если я не делаю того, что, мне казалось, является моей сутью. А эта суть уничтожена, оказывается. Это вызывает ощущение беспомощности, ничтожности, с этим очень сложно справиться. Плюс конфликты с администрацией, плюс запреты говорить, что думаешь.
И самоцензура — когда уже сам себя останавливаешь: а стоит ли давать классу эти стихи, а не спровоцирует ли это что-то нежелательное.
Тут хороший материал для будущего исследования филологов, психологов и философов на тему «Что происходило с людьми»: как будто одна нога в одной реальности, другая — в другой, и есть в этом какая-то неадекватность, гибридность».
Конец прошлого учебного года был очень тяжел: дети с опрокинутыми лицами, отъезд коллег и учеников, а главное — полное ощущение бессмысленности всего: работы вообще, работы в школе, жизни в России, жизни вообще.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Практикум по литературе
Как ни странно, для нас, литераторов, опорой стала та самая русская классика, которая вроде как потеряла смысл: всю весну шли разговоры об ее отмене. На уроках я никогда не вдавалась в разговоры о политике: они не для этого. Но я читала детям стихи — те, которые просто приходили мне в голову: Ахматову, Цветаеву, Георгия Иванова, Пастернака, Мандельштама… В одном классе дети сказали: «Странное дело — как будто за пределами школы сплошной практикум по русской литературе ХХ века». А в другом: «Загрузочно, да. Но если они это пережили — значит, и мы переживем?»
И оказалось, что можно опираться на профессию, на детей. Ты приходишь к шестиклашкам, а они тебе радуются. Ты приходишь в десятый класс и читаешь с ними Тютчева.
И вот вопрос: а действительно ли счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые? Эти стихи ведь совсем по-разному читаются во времена мирные и в те самые «минуты роковые». В чем счастье-то? Вот и думаем вместе.
Михаил:
— Опираться можно и на коммуникацию с коллегами. Мы все равно не изолированы: за эти месяцы я понял, что поддержка есть. Есть свой мир, можно себя собрать, не развалиться, жить дальше. Есть свой микрокосм, есть поддержка — вот в этом опора. Приходится отодвигать что-то внешнее, уходить в свой мир, в книжки, в корни и приставки — и жить по пословице «делай что должно, и будь, что будет».
«Сколько могу — столько сделаю. Упадет ядерная бомба… ну что ж. Я по крайней мере до конца — жил».
Даже если от тебя глобально ничего не зависит, ты можешь сделать то, что от тебя зависит: проснуться, пожарить блины, пойти в парк погулять, провести урок по приставкам. Тебя это собирает. Ощущение «я ничего не могу» — это депрессия, из нее выходят по микроскопическим шажочкам.
Все равно в жизни что-то есть. Да, не время радоваться, но ходить все время с постными лицами — это получается картина Васи Ложкина. Жизнь все равно прорастает через это, все равно тебя дети в школе ждут. Они не виноваты в том, что какой-то безумец что-то придумал. Это дети, к которым хочется идти, хочется созидать. В конце концов, созидание побеждает смерть.
Серая Шейка в полынье
В разговорах коллег я часто слышу один и тот же литературный образ: это Серая Шейка из сказки Мамина-Сибиряка: уточка, которая не смогла осенью улететь в теплую страну и теперь плавает в полынье, которая все сужается, смерзаясь.
Работу учителя контролируют все больше: навязывают единый учебник, единую программу, единые темы для разговоров. Как выжить учителю в этой замерзающей полынье?
Михаил:
— Даже в этом сужающемся пространстве я нахожу свои свободные точки, в которых могу существовать. Я стараюсь делать все, что могу: помогать клиентам, учить учеников. У меня пока это не забирают. Меня пока не душат, но, повторяю, «пока». Когда я думаю о том, что могло бы для меня стать последней каплей, чтобы покинуть страну, — должно наступить абсолютное отчаяние, когда терять нечего.
Похоже, мне есть что терять, поэтому я остаюсь здесь. У меня есть своя жизнь, есть учеба, которая для меня важна, даже вот в этом пространстве есть самореализация. Может быть, я ошибаюсь, но я здесь. Здесь я востребован, здесь я нужен.
А там я кто? Там потеря идентичности, а здесь пока эта идентичность сохраняется.
И еще один вопрос, который бесконечно повторяли коллеги, из Тэффи: ее знаменитое
«Ке фер? Фер-то ке?». Что делать-то?
Одна коллега ставит с детьми «Гамлета»: это ее способ говорить о действительно важном. Другие внимательно работают с классическими текстами — от «Илиады» до «Войны и мира», которые внезапно стали пугающе актуальными.
Михаил:
— Нет ни универсального ответа, ни волшебной палочки: просто делать то, что можешь, — говорит. — Все равно есть точки, где ты нужен. Есть мама, папа, дети, подруга, работа, жилье — что-то, к чему ты можешь прислониться и приложиться. Есть те же психологические группы — и это тоже работает. Все равно есть места, где можно побыть со своей болью, побыть с кем-то, поплакать на плече у кого-то. Сказать: «я, похоже, свою жизнь просрал, не тем занимался, какого хрена мне теперь делать?» Есть где этим поделиться. И тогда как-то жить есть ради чего: жизнь-то не заканчивается, пока ты не лежишь в гробу.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Веревку сами не принесем
Учителя — о жизни и работе в сокращающемся пространстве свободы
Я задала любимым коллегам (тем, к чьей работе всегда присматриваюсь, у которых с радостью учусь) несколько вопросов о том, что изменилось в их профессиональной жизни с конца февраля. Вот эти вопросы — и вот несколько анонимных ответов.
- Изменилось ли у вас за последние 9 месяцев представление о своей профессии и о том, что надо делать?
- Стало ли тяжелее работать, и если да — то почему?
- Кажется ли вам русская классика в это время потерявшей смысл или, наоборот, заново его обретшей?
- Согласны ли вы с популярными утверждениями, что русская культура: а) никого ни от чего не спасла и б) ответственна за имперское сознание россиян?
- Как вы справляетесь с ощущением утраты глобального смысла и других смыслов — профессиональных, личностных и проч.?
- Что вам дает силы? Чем спасаетесь?
- Изменилось ли то, как вы преподаете литературу, расставляете акценты?
- Пространство свободы в преподавании литературы в школе неумолимо сокращается, как полынья вокруг Серой Шейки. Как вы собираетесь выживать в этой полынье?
- Какой совет дадите коллегам?
Р., 62 года
- Сначала был шок и растерянность. Потом пришло осознание, что все, что я делала (особенно в последнее время), не просто не потеряло смысл, наоборот, стало еще более актуально. Учить внимательному чтению, умению вести диалог, формировать критическое мышление.
- Тяжелее — да, но это связано с общим, разлитым в воздухе; с возрастом труднее переживаются стрессовые ситуации, связанные и с внутрисемейными переживаниями особенностей нынешней ситуации. Но в школе и в классе — нет.
- Для меня многое актуализировалось. Я утвердилась в мнении, что именно она — основа для разговора в классе. Но это не отрицает внимания к современному. Надо также отметить, что на фоне совсем современно-актуального (я о текстах) классика набрала «вес».
- Не спасла, наверное. Но она помогает. Она говорит о том, что вопросы эти — вечные, если остаются без ответов, никуда не деваются. А про имперское сознание… тут я не профи. Для меня лично — ответ отрицательный.
- Справляюсь с трудом. Но — работа, как ни странно. Общение с коллегами, их поддержка. И моя поддержка для них. Необходимость думать о 84-летней маме. Просто дом, который стал ценнее и важнее, чем раньше.
- Думаю, я ответила выше.
- Нет, не изменилось. Всегда были разговоры о важном.
- Пока это пространство обеспечено позицией кафедры и администрацией школы. Пока у меня есть запас — «методический вес», который помогает разговаривать с родителями прямо: про шашечки или ехать? Дальше боюсь заглядывать. Понимаю, что инерционный период скоро закончится. У меня есть выход: мне 62, и я могу уйти. Не хотелось бы, потому что понимаешь, что еще есть порох.
- Не поддаваться. Не приносить веревку и мыло заранее. Не позволять сбивать себя с точки, на которой стоите. Но для этого, конечно, надо ответить на три вопроса, о которых я все время говорю детям как о главных на протяжении всей жизни: кто я? моё имя/(про)звание? Где я (где моё место?)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Н., 35 лет
- Да, я учитель литературы. И в России каждый раз я думаю, что мне сейчас можно сказать, а что нет. И это очень мешает. Хоть бери и переходи на язык жестов.
У меня много учеников подростков, с которыми сразу и быстро возникает контакт, они хотят обсуждать идентичность, себя в мире, свой «путь героя», а мне теперь страшно за них. За себя меньше, за них больше. - Да, стало тяжелее, потому что ты не можешь говорить впрямую что-то, самоцензура — ее я боюсь больше всего, потому что свобода — это я. А самоцензура отменяет меня как будто.
- Кажется, что в русскую классику хотят вчитать другой смысл. Как говорит Надежда Ароновна Шапиро: «Не надо искать в тексте то, чего там нет». Текст не может быть оружием пропаганды, текст — это призма, взгляд на жизнь, иногда ее калька, зеркало. А сейчас его хотят искривить или завесить.
- Культура, мне кажется, это продолжение, голос, эхо. Мне кажется, она не может быть первопричиной, она — последствие. Спасение же возникает в сонастройке ценностей. Не так давно мы встречались с коллегами на пироги и разговоры на тему «а не сошли ли мы с ума, давайте друг об друга подумаем об этом, сверим часы». Вот культура помогает сверять. Наверное.
- Мне кажется, смысл есть всегда, пока ты жив. Он просто маленький, а иногда и огромный. Кажется, что сейчас происходит пересборка себя (где я, с кем я, как в том анекдоте про магнолию). Ты постоянно выбираешь берег для себя. Проверяешь свои ценности.
- Отъездом из России, работой и сменой парадигмы: я могу и хочу помогать тем, кому плохо. Не отказываюсь от русскости, хочу держаться. Семья помогает сильно. Поняла, что дом — это люди.
- На первое место, кажется, вышла забота о другом. Как герои живут в рамках других, как берегут или нарушают.
- Уехала вот.
- Беречь то, во что верите. Не навязывать и запихивать в глотку, а сравнивать «не говно ли я» и как там мои убеждения, не ранят ли они меня самого и других рядом.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
А., 33 года
- У меня изменилось отношение к профессии: мне стало понятно, насколько важно выстраивать ценности того, что я делаю как учитель, от базовой ценности ненасилия. Мне стало принципиально важно выстраиваться на ненасильственных отношениях с учениками — и стало понятно, как многое находится в этом поле: в плоскости выстраивания отношений любви и свободы, а не отношений авторитета.
- Конечно, мне стало гораздо тяжелее работать. Я плохо сплю, я все время думаю о <…>, мне очень тяжело с теми учениками, о которых я знаю, что они поддерживают <…> — или, вернее, что их родители поддерживают и говорят об этом детям. Мне невыносимо тяжело в условиях самоцензуры, эзопова языка, невозможности говорить какие-то слова.
- Грустно, что режиссеры, на спектакли которых мы ходили с учениками, уехали. Их назвали предателями, а спектакли закрыли. Мы как раз ходили на Туминаса, только что ходили на Бутусова… Я, конечно, несу ученикам ту культуру, которая сейчас в России под запретом: это культура свободы, культура эксперимента, культура, опять же, ненасилия — все то, что сейчас кэнселится российским государством.
- Про спасение: спасла культура или нет. Как мы знаем после Освенцима, культура никого ни от чего не спасла и не обязана была. Ответственность за имперское сознание россиян лежит на имперском государстве, точка. Давайте отделять государство от себя и от человека — совет, вычитанный мной в гениальной книге Николая Эппле [«Неудобное прошлое»].
- Вопрос про русскую классику: наоборот, она обрела смысл. Этот смысл мне видится: первое — в гуманистическом пафосе, второе — в том, что русская классика замечательным образом показывает, что жизнь богаче наших представлений о ней, будь то теория Базарова, взгляды Платона Каратаева или дневник Печорина, — и учит нас видеть множественность точек зрения, как в любом художественном тексте, который всегда неоднозначен. Нам как никогда важно видеть мир стереоскопично. Ну и, наконец, русская классика учит нас нежности, учит нас эмпатии, но это, наверное, близко гуманистическому пафосу.
- У меня нет ощущения утраты глобального смысла — наоборот, сейчас для меня глобальный смысл, как редко когда, рельефно проступает как смысл профессиональный и личностный: свидетельствовать и продолжать делать то, что я делаю, чтобы бороться со злом, насколько мне хватает на это сил, талантов и так далее.
- Дает мне силы очень много чего: жена, литургия, Евангелие, молитва, психотерапия, прогулки, экологичное отношение к самому себе. Но сейчас, мне кажется, важно назвать в контексте нашего разговора горизонтальные связи с коллегами, которые нам удалось выстроить до войны, и потрясающие ученики. Ученики — лучшие.
- Я не могу сказать, что я начал иначе преподавать литературу, хотя я не могу не думать о <…>, ненасилии и всяком таком. Гораздо важнее то, как я стараюсь смещать акценты внутри себя в отношениях с учениками, стараться как можно больше их слушать, прислушиваться к ним, потому что, я повторюсь, ученики — лучшие.
- Я не знаю, как выживать в полынье. Я собираюсь игнорировать и продолжать делать то, что я делаю, пока мне рот не забили глиной. Коллегам я дам тот совет, который всегда давал: пожалуйста, ничего никогда не бойтесь, слушайте себя, прислушивайтесь к себе, к своей боли, к своему счастью, к своей трагедии, к своему блаженству, к своей усталости. У нас всеми силами хотят отнять субъектность. Фигушки, ничего они не отнимут.
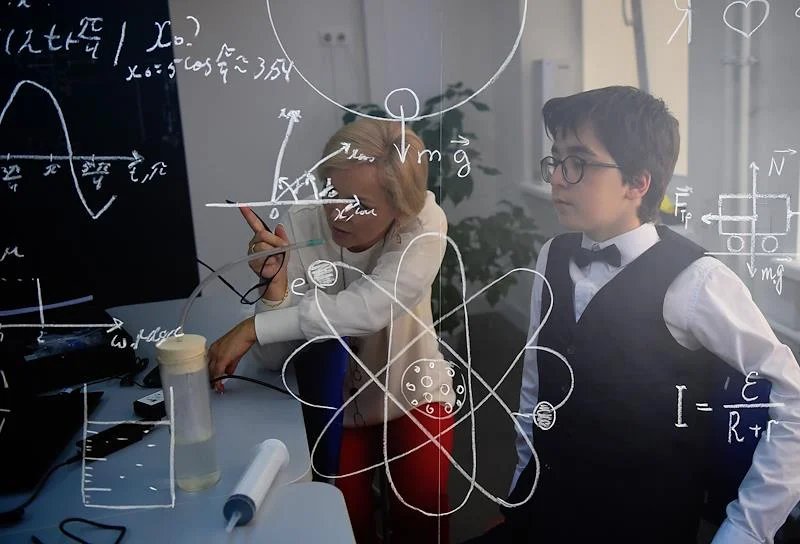
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Работать — это протест
Любовь Борусяк, социолог, преподаватель Свободного университета:
— Я исследую взгляды оставшихся в России противников военных действий. Первый опрос я провела в мае, в нем приняли участие 500 человек. Во втором, в конце ноября, я набрала 1300 участников, причем в обоих случаях респонденты набирались примерно за полтора дня, то есть люди очень активно откликались на просьбу заполнить анкету.
Во втором опросе учителя и преподаватели составили самую многочисленную группу респондентов: их оказалось около 15%, то есть примерно 200 человек. Еще 10% — это люди, которые занимаются литературой, культурой и искусством. То есть в целом — это около четверти опрошенных.
Для значительной части респондентов оставаться в России — это не выбор: у них или нет ресурса, или они несут ответственность за других
Не все рассматривают свое решение остаться в России как окончательное, но в ближайшей перспективе большинство из них останется в России.
При этом половине из них приходилось объяснять своим друзьям и знакомым, почему они не уезжают. В какой-то степени речь идет об оправдании, нарушении нормы на отъезд. А раз это так, то трудно себе представить, что они могут согласиться с довольно популярной сегодня позицией многих лидеров общественного мнения, что чем хуже будут идти дела в России, тем лучше.
Когда я задавала участникам исследования вопрос, что полезного они делают, чаще всего отвечали, что приносят пользу стране и обществу (с государством они отказываются себя ассоциировать), людям, здесь живущим. В какой-то мере в этом они видят проявление своего протеста против происходящего, считают, что поддерживают гуманистические ценности, а потому работают на будущее.
Такие ответы в основном давали представители так называемых помогающих профессий: врачи, психологи, юристы, работающие с населением, но все-таки наиболее ярко проявили себя в этом плане учителя и преподаватели вузов. Это именно та профессиональная группа, которая уверена, что если они честно выполняют свой профессиональный долг, то приносят большую пользу обществу. Они не сомневаются, что если несут детям, студентам не только хорошие знания, но и гуманистические ценности, то это социальное благо.
Эти учителя не занимаются пропагандой, стараются, пока это возможно, сохранить себя в профессии.
При этом они считают, что российское общество сегодня очень агрессивно, и что спокойный разговор — это то, что снижает уровень агрессии.
В своих занятиях с детьми они исходят из гуманного посыла — это способ сохранения нормы, это помощь в различении черного и белого. Государство стремится к росту агрессии, они стараются, пока и насколько это возможно, этому противостоять. Огромной части россиян не хватает способности к анализу ситуации, и учителя часто говорят о необходимости развивать критическое мышление, растить людей, способных сохранять независимость в суждениях. У них — гуманная, психотерапевтическая установка: «надо вселять уверенность и спокойствие в своих учеников, они такие хрупкие». Некоторые пишут, что дети пережили стресс, и их задача — снять этот стресс.
Одни, отвечая на вопрос «Что вы можете делать полезного?», отвечают совсем коротко: «Я учу детей». Другие подробно объясняют: «Я провожу уроки о важном — но о том, что важно мне и моим ученикам: я разговариваю с ними про историю страны, мы делали «народный архив», сохраняющий память об их семьях», «Я работаю учителем, поэтому я знаю, что помогаю детям расти думающими и независимыми». Учителя пишут, что когда смотрят на своих учеников, сидящих в теплых и светлых помещениях, то не могут не думать о таких же детях в соседней стране, которые сидят в укрытиях и учатся совсем в других условиях. Одна учительница написала:
«Я преподаю вечное искусство, учу детей понимать прекрасное. Я говорю с ними о том, что нет плохих наций, о том, что война — это плохо, я учу их задавать вопросы и формулировать мысли».
В целом мои респонденты, отвечая на вопросы анкеты, пишут, что в ситуации, когда открытая политическая борьба практически невозможна, они концентрируются на том, что могут сделать сами, а потому сосредотачиваются на каких-то малых делах, на помощи окружающим. «Я учу детей и надеюсь, что они вырастут нормальными людьми». И, конечно, в одной из учительских анкет не обошлось без цитаты «сею разумное, доброе, вечное». Но в целом надо понимать, что это не общие настроения учителей в стране, а настроения «несогласных».
